Текст и фотографии Уильяма Брумфилда
Россия — страна лесов, веками взращивавшая выдающиеся образцы мастерства деревянного зодчества. Однако древесина, несмотря на свою прочность, остаётся материалом уязвимым. Значительная часть этого богатейшего наследия дошла до нас лишь в виде фотографий утраченных построек. К счастью, сохранились и подлинные образцы, позволяющие прикоснуться к сложным культурным традициям прошлого.
Одним из самых примечательных памятников деревянного зодчества считается особняк, возведённый в конце XIX века в чухломских лесах Костромской губернии. «Терем» — архаичный термин, обозначающий башенное жилое строение — в деревне Асташово и сегодня поражает воображение. Тем удивительнее, что его удалось спасти от разрушения — судьбы, постигшей множество дореволюционных дач. В начале нынешнего столетия некогда пышный дом выглядел как классическая башня с привидениями: скрытый за зарослями молодых деревьев, он стоял на грани полного разрушения. И тут вмешался счастливый случай.

Первым владельцем и строителем этого необычного деревянного дома был Мартьян Созонович Сазонов. Он родился в 1842 году в селе Асташово (в XIX веке известном как Осташево), недалеко от городка Чухлома. Сазонов происходил из уважаемой семьи государственных крестьян, и его судьба опровергает распространённые стереотипы о положении крестьянства в России XIX века. Хотя большинство крестьян владело лишь скудными наделами и бедствовало, находились и исключения — те, кто благодаря трудолюбию и удаче сумел накопить значительное состояние. В Костромской и Ярославской губерниях многие такие состояния были заработаны в Санкт-Петербурге, куда энергичные молодые люди уезжали на сезонные строительные работы.
Когда пришло время оформлять документы, дающие право на работу в Петербурге, Мартьян взял в качестве фамилии имя своего отца — Созон Марков, став Созоновым. Со временем произношение фамилии изменилось, и она стала записываться как Сазонов.
Согласно региональной практике, юношей в возрасте от двенадцати до четырнадцати лет отправляли на четырёхлетнее обучение строительным ремёслам в столице, после чего им присваивались квалификации по определённым специальностям. Мартьян получил почётное звание мастера-плотника и столяра, обладая особыми навыками в изготовлении мебели.
Как и большинство его сверстников, он сохранял прочные связи с родным краем. В 1862 году Мартьян женился на Анне Андреевне из соседней деревни Фалелеево. Добившись успеха в Санкт-Петербурге как подрядчик с собственными рабочими и мастерскими, Сазонов направлял часть прибыли обратно в Чухломский район. Он не только строил дома в самой Чухломе, но и оказывал помощь местным жителям, занимаясь благотворительностью.
Тем не менее, начиная с 1860-х годов, успешный бизнес всё чаще удерживал Сазонова в Петербурге на большую часть года. В середине 1890-х годов его первая жена скончалась от тифа, и он женился повторно на Екатерине Добровольской, 21-летней дочери дьякона церкви Ильи Пророка в селе Ильинском. Вскоре после этого (предположительно в 1897 году) он возвёл деревянный особняк в Асташово.

Дом, построенный Сазоновым, часто называют «дачей», однако к скромному загородному дому он имеет мало отношения. Это сложное по конструкции здание состоит из двухэтажного основного объёма, сложенного из толстых еловых брёвен, над которым возвышается третий этаж с выступающими балконами и летними комнатами. Эта верхняя часть напоминает архитектуру традиционных палат в интерпретации XIX века, известную как «тэремок» — отсюда и название дома.

Сложная кровля с балконами и мансардными окнами представляет собой настоящий фейерверк декоративных форм. Балка, поддерживающая вершину крыши, выполнена из цельного соснового бревна, длина которого, как предполагается, изначально составляла 37 метров. Кульминацией всего ансамбля становится юго-западный угол здания, где возвышается высокая башня, увенчанная изящным орнаментом из майского дерева.

Дощатая обшивка, расположенная поверх бревенчатых стен, служит фоном для резных карнизов и ярко окрашенных наличников окон. Эти декоративные элементы отсылают к традициям русского деревянного зодчества, таким как крестьянская изба, но в оформлении окон угадываются смелые, абстрактные формы, характерные для эстетики национального возрождения XIX—XX веков.
Городское влияние проявляется в стилизованных декоративных деталях — таких, как раковинные картуши, а также в заимствованных из классической архитектуры мотивах: триглифах, метопах и даже акротериях. Эти элементы обогатили традиционный орнамент, трансформировавшийся в XIX веке, когда плотники, работавшие в крупных городах, возвращались в родные деревни, привозя с собой новый декоративный репертуар.

Таким образом, перед нами — произведение урбанистического искусства, во многом основанное на народных ремёслах, но не менее зависимое от романтического взгляда на традиционную архитектуру. Иван Ропет (Петров), сыгравший ключевую роль в абрамцевском художественном кружке, был одним из главных идеологов этого национального возрождения, и его влияние ощущается в популярном издании с эскизами и проектами под названием Мотивы русской архитектуры.
Подобные широко распространённые альбомы, содержащие многочисленные проекты деревянных дач, несомненно, были известны Сазонову и архитекторам, с которыми он сотрудничал в Петербурге. В этом свете терем в далёком Асташово оказывается напрямую связанным с крупным художественным движением столичной России.

Сазонов прожил в своём доме менее двух десятилетий. Он скончался в сентябре 1914 года — всего через несколько недель после начала Первой мировой войны. Его смерть кажется символичной: надвигавшийся мировой конфликт и последовавшая за ним революция стали катастрофой невиданных масштабов, положившей конец образу жизни, выраженному в таких личных воплощениях счастья.

После большевистской революции вдова Сазонова лишилась дома, который долгое время оставался закрытым и необитаемым. Лишь в 1942 году его интерьер — хоть и лишённый мебели, но сохранившийся в первозданном виде — был передан в пользование местной сельской администрации. Когда в начале 1970-х годов здание перестали использовать по назначению, дом окончательно пришёл в запустение, оказавшись в безлюдной деревне. (Последний житель Асташова покинул её в начале 1990-х годов.)
Великолепно возведённое здание оказалось забытым. Оно медленно уступало напору леса, который с каждым годом всё ближе подступал к стенам. В начале нынешнего столетия была поднята тревога о судьбе Терема — его обветшалое состояние грозило полным разрушением.
Как это нередко бывает с такими архитектурными жемчужинами, реалистичных планов по спасению большого, удалённого и труднодоступного строения не существовало. Однако общественное внимание к судьбе дома привлекло к нему Андрея Павличенкова, который решился на сложную задачу — вернуть к жизни уникальный, но разрушающийся памятник. Чтобы осуществить столь масштабный проект на высоком профессиональном уровне, Павличенков пригласил к сотрудничеству Александра Попова — одного из ведущих специалистов в России по реставрации деревянных сооружений.

Первыми шагами стали модернизация подъездной дороги и расчистка территории от густых зарослей. В 2011 году бригада рабочих разобрала сохранившуюся конструкцию и перевезла её в мастерские Попова в городе Кириллов Вологодской области, где начался тщательный анализ каждого деревянного элемента. Подлинные детали, сохранившиеся в хорошем состоянии, были восстановлены, а повреждённые — особенно декоративные фрагменты — с большой точностью воссозданы по оригиналу.

В 2013 году начались работы по повторной сборке Терема на его историческом месте. Он был установлен на кирпичный фундамент, воспроизводящий первоначальный. В рамках проекта была также заново построена деревянная хозяйственная пристройка, примыкавшая к задней части особняка — важная составляющая архитектурного ансамбля. Наружные реставрационные работы завершились в 2016 году.

Работы по восстановлению и внутренней отделке оказались более Работы по интерьерам оказались особенно сложными, поскольку внутреннее убранство дома было практически полностью утрачено. Хотя удалось восстановить следы оригинальных элементов, таких как массивные керамические печи, сама мебель не сохранилась. Пространство, где когда-то находилась широкая лестница на второй этаж, представляло собой зияющую пустоту. Тем не менее, изначальная планировка помещений была воссоздана, чтобы дом мог принимать платных гостей.
В проект реставрации были включены и пруды, расположенные перед особняком. (Вода для хозяйственных нужд поступает из глубокого артезианского колодца, пробурённого в этой болотистой местности.) Завершающим штрихом стала реставрация деревянной часовни из соседнего села Головинское, построенной в ту же эпоху, что и терем, с аналогичными декоративными элементами.

Терем в Асташово — это одновременно выдающийся пример архитектурной реставрации в сложных условиях и коммерчески успешный центр культурного туризма. Чуть дальше по дороге, у села Ильинское, возвышается заброшенная, но поэтично прекрасная церковь Ильи Пророка, построенная в 1815 году. А ещё можно организовать экскурсии по лесу к не менее замечательному деревянному особняку в Погорелово.

Контекст русской деревянной архитектуры данного периода подробно рассматривается в моей статье 2016 года:
https://www.academia.edu/29690915/Style_Moderne_and_the_Rediscovery_of_the_Wooden_Architecture_of_the_russian_North_the_Photographic_Connection
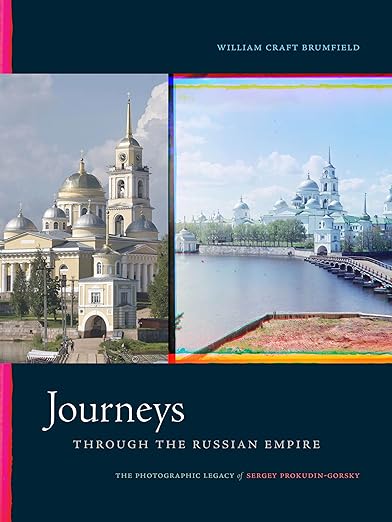
Книга Уильяма Брумфилда “Journeys through the Russian Empire” («Путешествия по Российской Империи») доступна на Amazon.
На рубеже двадцатого века фотограф Сергей Прокудин-Горский запечатлел Российскую империю, претерпевающую изменения вызванные индустриализацией и строительством железных дорог. Он разработал новейший для того времени метод создания цветных изображений на стеклянных пластинках. Его работы, запечатлевшие жизнь в императорской России, уникальны.
В 1918 году Прокудин-Горский уехал из России, забрав почти 2000 стеклянных негативов. В 1948 году Библиотека Конгресса США приобрела его коллекцию, которая стала важным источником для изучения дореволюционной России.
Уильям Крафт Брумфилд, ведущий специалист по русской архитектуре, начал работать с фотографиями Прокудина-Горского в 1985 году, курировал первую выставку в США и аннотировал коллекцию. В книге «Путешествия по Российской империи» он сопоставляет свои фотографии с работами Прокудина-Горского, исследуя сохранность архитектурного наследия России. Богато иллюстрированный том включает около 400 изображений, представляющих уникальное свидетельство двух выдающихся фотографов и их вклада в вопросы сохранения и культурной памяти.



